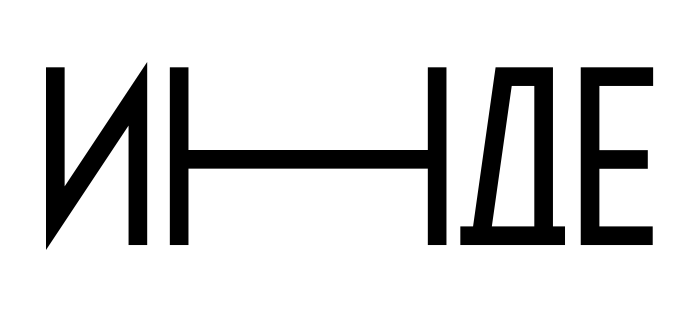Социолог и исследователь гендера Елена Здравомыслова: «Большинство всегда будет за патриархат, но общество меняют меньшинства»
«Вы только что узнали, что девушка, которая вам нравится, придерживается феминистских взглядов», — так начинается материал интернет-издания «Медуза», в котором мужчинам объясняют, чем плох сексизм и почему следует забыть все, что они слышали об «оголтелых феминистках». Манера подачи информации смутила и развеселила читателей — реакцией на публикацию был пародийный флешмоб. Гендерная повестка все чаще обсуждается в российских медиа, и «Инде» решил обсудить это с Еленой Здравомысловой — кандидатом социологических наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге и сокоординатором программы «Гендерные исследования». На Летнем книжном фестивале «Смены», где Елена читала лекцию, мы расспросили ее о состоянии российских гендерных исследований, политическом конструировании мужской и женской гендерных ролей и допустимости фейковых историй во флешмобе #янебоюсьсказать.
Материал проиллюстрирован работами цикла «Мифологии» испанского художника Анджело Пантойи.
Лекция Елены Здравомысловой на Летнем книжном фестивале «Смены» организована при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Вы одной из первых в России начали заниматься гендерными исследованиями — это было на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Как тогда выглядели российские gender studies и какой путь они проделали за последние 25 лет?
На самом деле гендерная тематика присутствовала в социальных исследованиях и в советский период, просто она никогда так не называлась. В то время у отечественных ученых не было выраженной гендерной методологии. Ситуацию переломила благоприятная политическая конъюнктура: в конце 1980-х страна ориентировалась на международную интеграцию, и это распространялось, в том числе, на науку. СССР, а потом и Россия подписывали международные документы: устанавливался приоритет международного права перед национальным, вступала в действие конвенция о ликвидации всех форм дискриминации против женщин — с отдельным пунктом против насилия. И хотя этот документ носил скорее декларативный характер, его принятие предполагало некоторые последствия — например необходимость изучать гендерную проблематику. Российские исследователи должны были разобраться, как обстоят дела в стране, где публично заявлено, что «женский вопрос» решен и равенство полов достигнуто.
Параллельно в 1990-х в России наступило так называемое «время бедной науки», когда бюджетное финансирование сократили, проводить исследования было экономически сложно и люди массово уходили из академической сферы. Но международные фонды поддержки науки разработали что-то вроде плана Маршалла в отношении российских ученых — особенно охотно поддерживали исследователей, которые изучали темы дискриминации, неравенства. Поэтому у тех, кто занимался гендером, были и средства к существованию, и деньги на научные проекты, летние школы, конференции. Гендерные исследователи стали появляться во всех сегментах системы производства научного знания — в Академии наук, в университетах и в новых неправительственных организациях.
Я в те годы работала в Институте социологии РАН в Санкт-Петербурге, где мы с моей коллегой Анной Темкиной тоже стали заниматься гендером. Вскоре появился Европейский университет, и мы перешли туда. Начинали с изучения феминизма как исследовательской проблематики — для нас это была абсолютно новая область, на русском языке литературы по вопросу было мало, нужно было изучить работы зарубежных коллег, понять существующий научный контекст. Мы читали монографии и научные статьи и разбирались, что такое гендерные исследования и как они могут применяться в российском контексте. В культурологическом смысле это была переводческая работа. Помимо понимания очевидной актуальности у меня было и личное академическое любопытство — слова «феминизм» и «гендер» были новыми, очень хотелось понять, что за ними стоит.
Почему гендерные исследования в России начались именно с «женского вопроса»?
Дело в том, что гендерные исследования изначально развивались в рамках академического феминизма на Западе. Именно исследовательницы-феминистки в 1970-х годах настояли на распространении категории гендера в сфере социальных наук (до этого термин использовался в лингвистике и означал категорию рода, а потом его взяли на вооружение социологи и психологи, но не маркировали им исследовательское направление или методологию). Академические феминистки противостояли мейнстриму социальной теории, который в то время натурализировал мужественность и женственность, то есть видел их обоснования прежде всего в природных различиях полов.
В 1990-е мы столкнулись с тем, что в России стали появляться отдельные группы, борющиеся за женские права, открылись центры поддержки жертв домашнего насилия, но массового женского движения не сложилось. При этом, когда российские гендерные исследователи обратились к историческим источникам, выяснилось, что мощное феминистское движение существовало в стране еще в добольшевистский период — причем это были не женщины-рабочие, а именно феминистки-равноправки. Но по каким-то причинам о них сегодня никто не помнит — черносотенцев знают, а феминисток нет. И социологам (как, впрочем, и историкам) было интересно, в том числе, разобраться в причинах этого умалчивания. Постепенно мы поняли, как работают механизмы патриархата в сфере научных исследований. О каких-то темах просто не говорят, потому что они якобы не представляют интереса, какие-то сегменты человеческого опыта освещаются очень активно — труд, молодежная социализация, чтение газет, — а какие-то остаются незамеченными — скажем, женское здоровье, сексуальность. Чтобы ситуация изменилась, нужно чтобы в академической среде накопилась критическая масса исследователей, придерживающихся феминистских взглядов.
Как дальше развивались гендерные исследования в стране?
Со временем менялись фокус и тематика. В ходе продолжительного освоения теории и истории феминизма — которое никогда не кончается — мы постепенно перешли к исследованиям сексуального опыта, потом занялись темой домашнего труда — проводили глубинные интервью с нянями, домработницами и матерями. Сейчас изучаем женское здоровье, беременность и роды, процессы медикализации и демедикализации. Сейчас постепенно подбираемся к гендерному аспекту старения. При этом мы занимались не только женщинами: гендерная тематика, хоть и зародилась в русле феминистского движения, быстро стала чувствительна к угнетениям и исключениям, связанным с опытом мужчин, и обратила внимание на те социальные категории, которые не укладываются в господствующие в обществе представления о правильной мужественности. Вообще материалы феминистских исследований помогают понять механизмы действия социального исключения, расизма и ксенофобии — отсюда вышла теория интерсекциональности, предполагающая выделение комплексных, сплетенных в единое целое форм исключения и угнетения (по полу, возрасту, гражданству, национальности).
В 2000-е годы обстановка для гендерных исследований в России ухудшилась. Зарубежные фонды ушли, политика поддержки изменилась, мода на гендер прошла. Кроме того, в стране произошел консервативный поворот, проявляющийся в истерии вокруг гей-пропаганды, абортов, в широком смысле — сохранения так называемых традиционных ценностей. Из гендерных исследований стало вымываться критическое феминистское основание, с другой стороны, возник тренд на их политизацию и морализацию.
Кажется, что феминистский дискурс исследования предполагает не только фиксацию, констатацию проблемы, но и попытку что-то изменить в социальной реальности. Можете привести пример гендерного исследования — своего или своих коллег, — которое как-то повлияло на жизнь российских женщин?
Мне кажется, вы упрощаете. Конечно, какой-то эффект исследование на реальность оказывает, но эта акционистская составляющая может проявляться по-разному. Бывает, вы задаете информанту вопрос, и он, по ходу интервью постепенно осознавая, как выглядит его жизнь со стороны, принимает решение ее изменить. Например, мы беседовали с представительницами sandwich generation (работающие люди среднего возраста, «сдавленные» необходимостью обеспечивать и пожилых родителей, и несамостоятельных детей. — Прим. «Инде»), и многие вслух проговаривали: «да, мне приходится ухаживать за больным отцом, такая у меня жизненная пора» или «такая судьба, ничего не поделаешь». Но постепенно некоторые респонденты обнаруживали, что имеют возможность изменить ситуацию — перераспределить заботу между семьей, государством, частными организациями, нанять сиделку. Есть и другой аспект влияния — более существенный, на мой взгляд. В конце концов результаты исследования публикуются в открытом доступе. То есть мы публично проговариваем: смотрите, в России уход за стариками семейноцентричный и гендернопрофильный, он маркирует женщин среднего возраста как заложниц ситуации. А в других странах это выглядит по-другому — и вот как. И обнародование этой информации тоже имеет свой эффект.
Какие представления о правильной мужественности и женственности актуальны в современной России?
Есть ядерные признаки нормативной модели, но жесткого must уже, к счастью, не существует. В целом доминантна гетеросексуальная норма, а другие сексуальные ориентации — в худшем случае болезнь, в лучшем «не повезло». Вторая устойчивая норма: титульные роли русского мужчины — это «добытчик» и «защитник», а женские симметричны: «мать» и «хранительница».
То есть ничего не меняется уже очень давно?
Зависит от того, какой период рассматривать. Относительно постсоветского, например, есть выраженная динамика: в последние годы гендерный контракт изменился, произошла легитимация положения домашней хозяйки. Работа по дому и воспитание детей теперь считается самодостаточным трудом, не предусматривающим занятости на производстве, и это важный сдвиг. В СССР, конечно, тоже были домашние хозяйки, но они всегда осуждались — кроме жен представителей номенклатуры или жительниц военных городков, где женщине было трудно найти работу.
Кроме того, с появлением новых средств контрацепции изменился подход к репродуктивной функции — решения о потомстве сегодня принимаются более взвешенно, в этом плане разрыв молодежи с поколением родителей колоссален. То есть, разумеется, тех, кто не думает о последствиях и пренебрегает средствами защиты, все равно много, но нормой все же считается осознанность. Важно понимать, что женщина становится актором планирования деторождения. Хотя у нее эту роль пытаются отнять — например запретом на аборты, — потому что государству гораздо полезнее, когда молодые люди плодятся и размножаются.
В последнее время феминистская проблематика активно обсуждается в российских СМИ. В лайфстайл-изданиях дискурс проявился раньше, теперь он проник и в общественно-политические медиа — на «Медузе», например, есть редактор, отвечающий за «гендерное разнообразие» повестки. Как вы считаете, почему это происходит именно сейчас?
Произошел рост сознания — не без участия гендерных исследователей и представительниц феминистского движения. Либеральные и демократические ценности проникли в сознание граждан. Причем переосмысляется не только гендерная, но и этническая, и сексуальная идентичность. Это называется рефлексивностью, и гендер тут — лишь один из параметров. Выросло поколение, которое не доверяет государству и рассчитывает только на себя, и его представители понимают, что ресурсы, необходимые для жизни, связаны, в том числе, с местом человека в гендерной системе. Если я рожу и не смогу обеспечивать ребенка, что я буду делать? И почему же общество настаивает на том, чтобы я рожала? Я гомосексуал и хочу преподавать — смогу ли я пойти работать в школу? Также важно понять, что актуализация феминистских групп, радикализация движения — это всегда ответ на общественное давление и консервативную политику.
В прошлом году на «Фейсбуке» прошел флешмоб #янебоюсьсказать. В рефлексии на него часто встречалось мнение, что некоторые девушки придумали свои истории или сгустили краски, чтобы быть в тренде. Не получится ли так, что нарочитая актуализация женских тем в медиа…
Это не «женские» темы. Проблемы насилия и изнасилования общественные, и если в обществе считается, что это проблема лишь женщин, это катастрофично. Да, люди высказываются по-разному, но важно, что тема, которая ранее не затрагивалась, была осмыслена как кризисное явление. Я считаю, что это замечательный флешмоб. А то, что кто-то решил «быть в тренде», — ну и что? Даже если кто-то что-то придумал, он сделал это с соблюдением правил достоверности. Им поверили, значит, эти истории существуют в дискурсе, и, как говорят социологи, если что-то есть в дискурсе, оно есть и в перформансе. Тот факт, что кто-то посмел обсуждать вопрос сфабрикованности историй о насилии, значит, что с проблемы пытаются сдвинуть фокус, не допустить ее перехода из статуса «женской» в статус «общественной». В этом слышится голос патриархата.
Давайте на секунду представим, что флешмоб был о насилии не над женщинами, а над стариками в семье. Можно будет отмахнуться и сказать, что все авторы историй просто страдают маразмом, и частично это даже может быть правдой, но неужели это будет значить, что проблемы нет? Или давайте попробуем обсудить насилие в отношении детей. Рукоприкладство многие до сих пор считают универсальным методом воспитания, но если бы оно обсуждалось, оно бы стало объектом критики. Российское общество любит насилие и верит в его эффективность — и главная опасность заключается в этом, а не в придуманных историях. Эта любовь отражается даже на геополитической риторике: забрать что-то силой и потом сказать, что «они сами захотели». Абсолютно симметричный дискурс, даже смешно. А чего стоит ответ нашего президента «я же дзюдоист» на вопрос про душ с гомосексуалом? И аудитория воспринимает это на ура.
Если бы к вам и вашим коллегам по Европейскому университету обратилось государство с просьбой помочь разработать долгосрочную программу, касающуюся российской семьи, — гендерную и демографическую стратегии, политику в отношении гомосексуалов, — какие бы рекомендации вы дали?
В первую очередь я бы настояла на изменении риторики. Меньше слов «правильно», «неправильно» и «нельзя», меньше категоричности. Стоит расширить спектр нормальности — например, вместо того чтобы говорить о единственном типе «нормальной» семьи, было бы хорошо признать «многообразие семейных форм» (именно об этом пишут социологи, изучающие современные тренды семейных отношений). В этой сфере уже есть положительные тенденции: там, где раньше говорили «материнство», сейчас используют слово «родительство», мы постепенно отказываемся от стигматизирующего словосочетания «неполная семья». Конечно, разрыв между риторикой и практикой будет всегда. Но когда постоянно на фоне звучат морализаторские рассуждения о том, что совместное проживание без брака ненормально, отклонение от гетеросексуальности недопустимо, аборт — грех, миллионы людей чувствуют себя нарушителями закона, и это очень опасно. Они отчуждаются от государства — зачем иметь дело с инстанцией, которая считает тебя уродом и все время акцентирует внимание на том, что ты никуда не годишься? В общем, следует перестать воспроизводить нормы про Петра и Февронию, между прочим, забывая о том, что детей у них не было.
Как быстро изменение властной риторики приведет к тому, что люди перестанут чувствовать себя исключенными и неправильными? Дело ведь не только в государстве или церкви, но и в друзьях и соседях, которые точно знают, как нужно жить.
Ждать изменения риторики не нужно. Универсальная стратегия людей, на которых оказывается давление, — солидаризм. Люди с более широкой нормативной рамкой объединяются и строят сообщества, их выталкивают на периферию, а они самоорганизуются, потому что свобода для них дороже признания в социуме, где производится жесткая моральная норма. В конце концов, большинство всегда будет за патриархат, но общество меняют меньшинства.
На деле правила частной жизни меняются не только у меньшинств, и государство ничего не может с этим сделать. Например, люди в моем поколении лояльно относились к разводам, а воспитание детей в семье с одним родителем было массовым явлением и не стигматизировало ни родителя (мать), ни ребенка. Однако в то время не приветствовалось проживание пары без регистрации, а сейчас даже самые консервативные родители говорят: «Поживите, узнайте друг друга, не торопитесь жениться». Фундаменталисты будут всегда, но большие культурные перемены начинаются с перемен в частной жизни, сдержать которые очень трудно.
Фото: Даниил Шведов